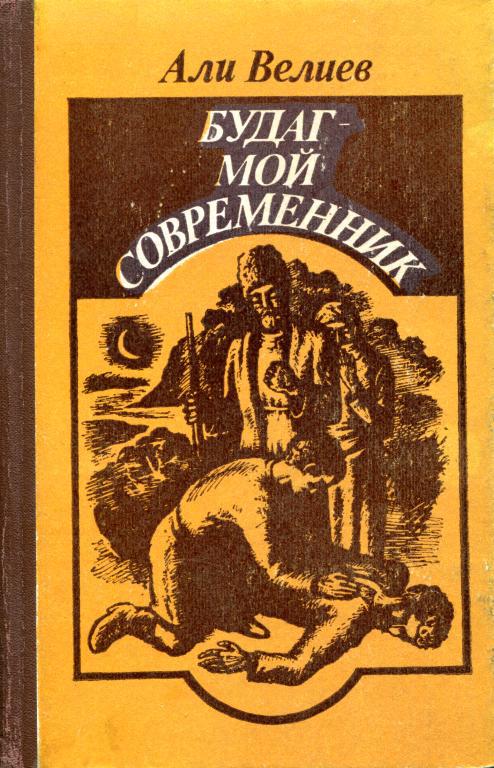class="p1">— Да простят меня сидящие здесь уважаемые товарищи, но я не вижу в обсуждаемом вопросе никакого, так сказать, состава преступления, а тем более — скрытых действий классового врага. Следует ли принимать заведомо глупые вопросы молокососа, которым движет любопытство, возникшее в обывательской среде, за пособничество врагу? Я думаю — нет! Но зато следует говорить о нашей неудовлетворительной воспитательной работе! О боевитости нашей пропаганды! Об острых проблемах текущей жизни мы говорим порой уклончиво и обтекаемо!..
Инструктор Центрального Комитета предложил послушать тех, кто задавал преподавателям «неумные», как он сказал, вопросы, из-за которых и началось разбирательство.
Из выступлений слушателей стало ясно, что они, поддавшись обывательским разговорам, решили узнать о них мнение преподавателей, и никаких других целей при этом, а тем более враждебных, не преследовали.
Секретарь райкома в начале заседания бюро был хмур и молчалив. Но после моего выступления и ответов слушателей успокоился.
Начались выступления членов бюро. В достаточно осторожных выражениях они защищали коммунистов, не совершивших никаких преступлений против партии. Единодушно встали на мою сторону и предложили указать директору партшколы на ослабление политико-воспитательной работы со слушателями.
Бакинские товарищи все-таки настояли, чтобы бюро райкома до завтрашнего дня не принимало никаких решений.
Было решено завтра продолжить заседание бюро.
Вечером инструктор пригласил меня и директора партшколы к себе (оказывается, к нашему приходу он уже переговорил с Баку). Он был озабочен, но держался уверенно.
— Я думаю, — сказал он, — что вам здесь не следует работать.
— Но мы не вправе распоряжаться собой, — возразил директор. — Нас сюда прислали по решению партийных инстанций.
— Я постараюсь помочь вам уехать.
— А как с решением бюро по нашему вопросу? — спросил я.
— Никакого решения не будет. Я связался с Баку, нам посоветовали ограничиться обсуждением. Примем к сведению сообщения товарищей, ваши объяснения. И на том кончим.
* * *
Через неделю директора школы отозвали в распоряжение Центрального Комитета.
Я написал короткое письмо Самеду Вургуну. В тот последний год, что я был в Баку, мы с ним очень сдружились. Я просил его сделать все возможное, чтобы Союз писателей ходатайствовал о моем возвращении в Баку.
Через неделю, так и не дождавшись ответа от Самеда Вургуна, я позвонил ему по телефону.
— Ты получил мое письмо? — спросил я его.
— Какое письмо? О чем?
Я повторил все, что писал в письме.
— Вот что, — сказал он мне, — на днях у меня встреча с трудящимися в Агдаме, приезжай туда — поговорим!
Через два дня я собрался и поехал в Агдам, где, конечно, сразу же постарался встретиться с Самедом. Мы обнялись.
Самед обрадовал меня: он разговаривал обо мне в Центральном Комитете партии Азербайджана с заведующим отделом пропаганды.
— Товарищи о тебе хорошо отзываются. Возвращайся и жди вызова! — сказал он мне на прощание.
Вскоре в райком партии пришла телеграмма, которую я ждал:
«Будаг Деде-киши оглы отзывается в распоряжение Центрального Комитета Компартии республики».
Я стал собираться в дорогу. Я прощался с красивым городом, примостившимся на склонах снежноголовых гор.
Был пасмурный октябрьский день 1936 года. С гор дул порывистый ветер.
Мне жаль было расставаться с сотрудниками, газетой, каждая полоса которой говорила о бессонных моих ночах и переживаниях, о буднях и праздниках города, который строился на моих глазах и с которым я сжился.
Я зашел в райком партии, где попрощался с секретарем.
Председатель райисполкома дал мне грузовик, чтобы отвезти Кеклик к родителям. Этот же грузовик из Назикляра привез меня на железнодорожную станцию.
Я уезжал в Баку.
На душе было и легко, ибо я уезжал в город, который я полюбил, и тревожно: что ждет меня в моем будущем?